Записи
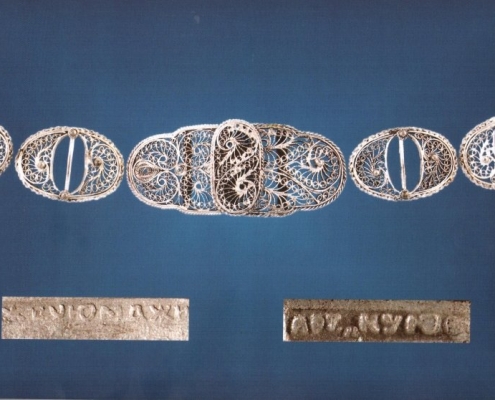
Артель «Куюмджи»: форма и содержание крымскотатарской филиграни во времена коллективизации.
В 1930-х годах на фоне происходящей…

Как правильно дополнять крымскотатарский фес традиционными украшениями?
Одежда крымских татарок во все времена…

ТОП-6 ГЛАВНЫХ ОТКРЫТИЙ МАСТЕРСКОЙ MIRAS В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Около двух столетий крымскотатарское…

ИСКУССТВОВЕД ЕКАТЕРИНА ЕРМАКОВА ДЛЯ FOLKROOM.RU: МАСТЕР КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛИГРАНИ
В Бахчисарае кроме знаменитого Ханского…

Аргументы и Факты: Серебряная нить. В Крыму работает один из последних ювелиров-филигранщиков
Еженедельник "Аргументы и Факты" №…

БИЗНЕС И КУЛЬТУРА: Крымская филигрань Айдера Асанова
Неподдельный интерес и симпатия…
